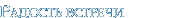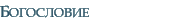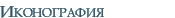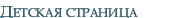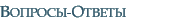Некоторые сведения из жизни Достоевского.
Нет нужды подробно писать о религиозности Достоевского: это хорошо известно всякому интеллигентному читателю. И здесь я хочу упомянуть об этом знаменитом человеке, несомненно очень умном и в то же время очень религиозном, для того, чтобы читатель поразмыслил о том, что ум этот не помешал ему быть религиозным. Показателен и тот факт, что в первой половине своей жизни Достоевский был настроения иного, - тем важнее его последующая, до самой смерти, религиозность.
Родился Федор Михайлович 30 октября (ст. ст.) 1821 года и получил свое имя, вероятно, в честь прп. Феодора Студита, потому что ни раньше, ни позже нет ближайшего святого с этим именем. Грамоте научила его мать. Закону Божию учил братьев (старшего Михаила и Федора) диакон. Отец, военный лекарь, всячески помогал им в обучении. Потом братья поступили в пансион, где особенно увлекались словесностью, а Пушкина знали почти наизусть. Затем отец определил Федора в инженерное училище, но чтение западных писателей: Гофмана, Бальзака, Гете, Кромвеля, Гюго, и русских: Гоголя, Грибоедова - оставалось любимым занятием.
На собственных его ранних произведениях - «Бедные люди», «Двойник» и прочем, - я останавливаться не буду, так как меня сейчас интересует только касаемое религиозности Достоевского.
В ночь на 23 апреля 1849 года он был арестован по делу «петрашевцев» - революционной группы, по преимуществу из писателей того времени. Тогда Достоевский был обвинен, в частности, и в чтении письма Белинского, «наполненного дерзкими выражениями против православной церкви и верховной власти», - следовательно, можно думать, что он и сам держался тех же мыслей. Он был осужден, вместе с другими 34-мя петрашевцами, на расстрел. На Семеновском плацу, у эшафота, им было объявлено о неожиданном помиловании, и затем только сообщено, что Государь заменил смертный приговор каторгой на четыре года. Так Достоевский остался жив. Прощаясь с братом, Федор Михайлович сказал ему: «И в каторге не звери, а люди».
Это событие оставило в нем глубокий след. Прежде всего, он побывал на краю смерти. А потом, благодаря более близкому знакомству с простым народом на каторге, у него совершенно изменились воззрения. Он увидел, что народ ко многому, и в особенности к вере в Бога, относится совсем иначе, чем интеллигентные люди. Например, разговаривают два каторжника о заключенном поляке: «Он в Бога не верует: нужно убить его!» Это поражает Достоевского, как и многое другое.
«Я видел народ наш и знаю его, жил с ним довольно лет, ел с ним, спал с ним, и сам к злодеям причтен был, работал с ним настоящей мозольной работой... Я его знаю: от него я принял вновь в душу мою Христа, Которого узнал в родительском доме ребенком и Которого утратил, было, когда преобразился в европейского либерала».
Достоевский не только сам избирает народную веру, но и проповедует ее всю остальную часть своей жизни. Он думал, что и другие интеллигенты пойдут по этому народному пути, но ошибся: веры в народе и от народа они не приняли. Да это и естественно: если интеллигенты ушли от Христа распятого, то могли ли они принять проповедь «Из мертвого дома»?!
Кроме «народной», мы видим и другой источник веры. В письме к брату Михаилу Федор Михайлович просит, наряду с историческими и экономическими книгами, прислать ему и «отцов Церкви». Значит, религиозный процесс складывался и углублялся в Достоевском как на каторге, так и после, на воле.
Четыре года каторги кончились; он сначала был отправлен в солдатскую службу, но к октябрю 1855 года произведен в прапорщики. В 1860 году мы видим его уже в Петербурге. Начинается эпоха его романов - «Униженные и оскорбленные», «Преступление и наказание».
Позднее Федор Михайлович с новой женой, А. Сниткиной, которая ранее была у него стенографисткой, едет за границу (1867-1871). (Кстати, я видел ее еще живою: она рассказывала в «Обществе Ревнителей Нравственного (Народного) Просвещения» свои впечатления о Федоре Михайловиче. Кажется, это было в 1904-1905 гг. Скромная и простая душой женщина. Имя ее: Анна Григорьевна.) Здесь он пишет произведения «Идиот», «Бесы», «Вечный муж».
Из-за границы Достоевский возвращается не только убежденным «народником», каким был уже со времени «Мертвого дома», но и исповедником православия, как корня всего доброго, особенно любви и чистоты. Он пишет роман «Подросток». Здесь, думаю я, писатель выводит молодых людей, мечтавших о себе как о будущих знаменитостях, но путь к этому - деньги. И от того, что выберет молодежь - «миллион», «золотой век» или Нагорную проповедь - зависят судьбы России.
С 1873 года Достоевский начинает издавать известный «Дневник писателя», где он один, без сотрудников и программы, освещает многие вопросы современной русской, а также и заграничной жизни.
С 1878 года Достоевский оставляет свой «Дневник» и начинает работать над знаменитым романом «Братья Карамазовы», о котором он думал еще в 1870 году за границей и который он хотел озаглавить: «Житие великого грешника». Здесь наиболее рельефно выразились религиозные идеи Достоевского. Роман был задуман в пяти отдельных повестях, начиная от Чаадаева, но потом Федор Михайлович от первой части отказался, а четыре - свел в две, из которых написал только первую. Главным «положительным» героем у Достоевского намечен, но не до конца раскрыт младший из братьев Карамазовых - Алеша, этот «идеальный» юноша. Но он вполне должен был быть выведен во втором томе «Братьев Карамазовых» - и там он оказывается даже цареубийцей (как писал Достоевский Стасову), и неизвестно еще, чем он кончит.
С 1879 года Достоевский возобновляет издание «Дневника», которое продолжается вплоть до января 1881 года.
Умер Достоевский 28 января 1881 года. Он исповедался и причастился Святых Тайн. И стал лежа читать Евангелие. Ему открылись слова, сказанные Спасителем Иоанну Крестителю, который удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя... Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь... (Мф. 3, 14-15).
И тут Федор Михайлович обратился к жене, и сказал: «Не удерживай и ты меня!» - и скончался.
Кое-что из творений Достоевского.
Федор Михайлович во второй половине своей жизни, после каторги, был глубоко верующим - это всем нам хорошо известно. Если же я смею об этом писать, приводя некоторые выдержки, то делаю это не для того, чтобы подтвердить очевидное, а чтобы обратить наше внимание на некоторые мысли Достоевского о вере, нравственности и безсмертии.
Вера в Бога придет «по мере того, как будете преуспевать в любви»; тогда «будете убеждаться в бытии Бога и безсмертии души»,- учил старец Зосима, почитателем и последователем которого был «ранний человеколюбец» Алеша Карамазов.
Иван Карамазов признает в споре, что «на всей земле нет решительно ничего такого, что бы заставляло людей любить себе подобных, что такого закона природы: чтобы человек любил человечество - не существует вовсе, и что если есть и была до сих пор любовь на земле, то не от закона естественного, а единственно потому, что люди веровали в свое безсмертие». А когда исчезнет эта вера, «тогда ничего уже не будет безнравственного, все будет позволено, даже антропофагия (людоедство. - Авт.)» (Братья Карамазовы. Ч. 1, кн. 2, VI). Без этой веры жизнь безцельна и нелепа; и самый естественный выход отсюда - самоубийство. «[Я], - думает самоубийца, - не буду и не могу быть счастлив под условием грозящего завтра нуля. Это - чувство, это непосредственное чувство, и я не могу побороть его. <...> И наконец, если б даже предположить эту сказку об устроенном наконец-то на земле человеке на разумных и научных основаниях... поверить грядущему наконец-то счастью людей, - то уж одна мысль о том, что природе необходимо было... истязать человека тысячелетия... одна мысль об этом уже невыносимо возмутительна» (Дневник писателя. 1876. Октябрь. «Приговор»).
Кириллов приходит к такой философии: «Если Бог есть, то вся воля Его... Если нет, то вся воля моя, и я обязан заявить своеволие. <...> Я обязан себя застрелить, потому что самый полный пункт моего своеволия - это убить себя самому» (Бесы. Ч. 3, гл. 6, II). И он, действительно, убивает себя.
Смердяков, незаконный сын Карамазова-отца, говорит Ивану Карамазову: «Хотя отца-то убил я, но настоящий убийца - вы. Ведь вы говорили, что Бога нет. А коли Бога нет, то все возможно!» Иван молчит. Он - безбожник.
Раскольников говорит о себе, что, убив старуху-ростовщицу, он, собственно, хотел убедиться в том, что он «великий человек, а не глупая толпа». «...Мне надо было узнать тогда, и поскорей узнать, вошь ли я, как все, или человек? <...> Тварь ли я дрожащая или право (курсив Достоевского. - Ред.) имею...» Но после убийства совесть начинает мучить его. «Я себя убил, а не старушонку», - сознает Раскольников в ужасе (Преступление и наказание. Ч. 5, IV).
А дальше, как следствие этого безумия, его сестра Дуня оказывается во власти Свидригайлова; мать его умирает с горя; заподозренный в преступлении маляр «накладывает на себя руки».
В мире происходит столько зла! О причинах этого так ясно говорит старец Зосима: «Отвергнув Христа, кончат тем, что зальют мир кровью».
В «Бесах» Верховенский с восторгом ждет того времени, когда учитель будет смеяться с детьми над их Богом и церкви будут пусты. (Ч. 2, гл. 8).
Над этим романом Достоевский ставит эпиграфом строки из стихотворения Пушкина: «Хоть убей, следа не видно, // Сбились мы: что делать нам?..»
Материалист Ракитин советует Алеше Карамазову ратовать о расширении гражданских прав человека или хотя бы о том, чтобы цена на говядину не поднималась. «А ты, - отвечает Алеша, - без Бога-то сам еще на говядину цену набьешь... и наколотишь рубль на копейку».
Кардинал-инквизитор в известной беседе со Христом говорит: «...знаешь ли [Ты], что во имя этого самого хлеба земного и восстанет на Тебя дух земли (диавол. - Авт.)... и победит Тебя, и все пойдут за ним... Знаешь ли Ты, что пройдут века и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные. "Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!" - вот что напишут на знамени, которое воздвигнут против Тебя и которым разрушится храм Твой» (Братья Карамазовы. Ч. 2, кн. 5, V).
Мое мнение. Казалось бы, что я всецело должен стать на сторону Достоевского как верующего человека, но это было бы неправильно. Дело в том, что Федор Михайлович мечтал о наступлении такого блаженного времени, когда любовь, а следовательно, и вера в Бога и братство людей воцарятся на земле. И все это будет не «храмовым» только и даже не личным, а всемирно-историческим, вселенским. Конечно, понятно, почему прозвучала именно эта проповедь - хотя бы потому, что лишь ею можно было заинтересовать интеллигентное общество.
Но веровал ли в это сам Достоевский? - Сомневаюсь!
Во всяком случае, я, как православный христианин, не могу так думать. Почему? Господь Иисус Христос сказал, что, конечно, вера в Бога нужна. Безспорно! (Лк. 17,6; Мк. 11,23). Однако, закончил Он прискорбными словами: Но Сын Человеческий, придя (во второй раз. - Авт.), найдет ли веру на земле? (Лк. 18, 8).
И вообще, вся Церковь несомненно верит в страшный конец мира.
Притом, никогда христианство не обещало «райской» жизни на земле, наоборот, оно называло себя «религией креста», вслед за Крестоносцем - Господом Иисусом Христом, Начальником и Совершителем веры (Евр. 12, 2).
Однако это нисколько не значит, что христиане обречены на муки в этой жизни; наоборот, они блаженны духовно (Мф. 5, 3-11; Ин. 13, 17), мирны (Ин. 14, 27; 16, 33; Деян. 10, 36; 2 Петр. 1, 2; Рим. 1, 7; 5, 1; 10,15; 14,17; Гал. 5, 22; Еф. 2,14,17; 6,15; Флп. 4, 7; Кол. 3, 15; Евр. 12,14; Откр. 1, 4). Особенно мы блаженны, если страдаем за правду (1 Петр. 3, 14), если нас злословят... за имя Христово (1 Петр. 4, 14); блаженны, чьи беззакония прощены (Рим. 4, 7); блаженны те, которые соблюдают заповеди (Откр. 22, 14; Ин. 14, 21) и т. д.
И это мы знаем опытно! Это известно с начала христианства и до конца мира (Откр. 3, 8, 10). Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками... (Откр. 2, 26). Это все составляет общеизвестное учение Церкви и хорошо известно народу нашему.
Скажу больше - истинный христианин страдания за Христово учение почитает даже за дар Божий: ...вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него (Флп. 1, 29); ...блаженнее давать, нежели принимать (Деян. 20, 35). Поэтому истинно верующий радуется и концу мира: Ей, гряди, Господи Иисусе! (Откр. 22, 20).
А поэтому всякими страданиями Христа ради христианин радуется. Апостол Павел говорит: [Ничем] я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира (Гал. 6,14). Впрочем, что можно сказать больше Христа Господа, Который и о Себе предрек, что и Ему Самому предлежит крест страданий и истинным последователям Своим завещал его (Мф. 16, 24). А когда апостол Петр захотел пожалеть Господа, узнав, что быть убиту Ему, и начал прекословить, говоря: будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Гобою!, Христос за этой просьбой увидел то же искушение, с которым обратился к Нему диавол в пустыне, обещая дать Ему и хлеб, и все царства мира, и славу их, если Он поклонится ему. Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое (Мф. 16, 21-23).
И те, о которых я часто говорил вам, - пишет апостол Павел, - а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец - погибель, их бог - чрево, и слава их - в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство - на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа... (Флп. 3, 18-20). И потому, радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь. <...> Не заботьтесь ни о чем... и мир Божий... соблюдет сердца ваши... <...> ...И Бог мира будет с вами (Флп. 4, 4, 6, 7, 9). Такое воззрение на крест смущало врагов креста Христова... (Флп. 3, 18) и при Христе, и после, и доселе.
Нам ли за ними идти? - да не будет! (Мф. 20, 26).
Митрополит Вениамин. 1957, 13 июля.
«Возразят мне, пожалуй, что можно устроиться и устроить гнездо на основаниях разумных, на научно-верных социальных началах, а не грабежом, как было доныне. Пусть, а я спрошу: для чего? Для чего устраиваться и употреблять столько стараний устроиться в обществе людей правильно, разумно и нравственно-праведно? На это уж, конечно, никто не сможет мне дать ответа. <...> Но задавая, как теперь, себе безпрерывно вопросы, я не могу быть счастлив, даже и при самом высшем и непосредственном (курсив Достоевского. - Ред.) счастье любви к ближнему и любви ко мне человечества, ибо знаю, что завтра же все это будет уничтожено: и я, и все счастье это, и вся любовь, и все человечество - обратимся в ничто, в прежний хаос. А под таким условием я ни за что не хочу принять никакого счастья... просто потому, что не буду и не могу быть счастлив под условием грозящего завтра нуля. Это - чувство, это непосредственное чувство, и я не могу побороть его. <...> И как бы разумно, радостно, праведно и свято ни устроилось на земле человечество, - все это тоже приравняется завтра к тому же нулю. ...[Вот] в этой мысли заключается какое-то глубочайшее неуважение к человечеству, глубоко мне оскорбительное и тем более невыносимое, что тут нет никого виноватого.
<...> Теперь прибавьте к тому, что той же природе, допустившей человека наконец-то до счастья, почему-то необходимо обратить все это завтра в нуль, несмотря на все страдание, которым заплатило человечество за это счастье... то невольно приходит в голову одна чрезвычайно забавная, но невыносимо грустная мысль: ну что, если человек был пущен на землю в виде какой-то наглой пробы, чтоб только посмотреть: уживется ли подобное существо на земле или нет? Грусть этой мысли, главное - в том, что опять-таки нет виноватого, никто пробы не делал, некого проклясть, а просто все произошло по мертвым законам природы, мне совсем непонятным, с которыми сознанию моему никак нельзя согласиться. Ergo: Так как... при таком порядке, я принимаю на себя в одно и то же время роль истца и ответчика, подсудимого и судьи и нахожу эту комедию, со стороны природы, совершенно глупою, а переносить эту комедию, с моей стороны, считаю даже унизительным - то в моем несомненном качестве истца и ответчика, судьи и подсудимого, я присуждаю эту природу, которая так безцеремонно и нагло произвела меня на страдание, - вместе со мною к уничтожению... А так как природу я истребить не могу, то истребляю себя одного, единственно от скуки сносить тиранию, в которой нет виноватого» N. N. (Дневник писателя. 1876 г. Октябрь. «Приговор»).
«Статья моя "Приговор" касается основной и самой высшей идеи человеческого бытия - необходимости и неизбежности убеждения в безсмертии души человеческой. Подкладка этой исповеди погибающего "от логического самоубийства"человека - это необходимость тут же, сейчас же вывода: что без веры в свою душу и ее безсмертие бытие человека неестественно, немыслимо и невыносимо. <...> А высшая идея на земле лишь одна (курсив Достоевского. - Ред.) и именно - идея о безсмертии души человеческой, ибо все остальные "высшие" идеи жизни, которыми может быть жив человек, лишь из нее одной вытекают.
[Человек хочет найти цель жизни] в "любви к человечеству": "Не я, так человечество может быть счастливо и когда-нибудь достигнет гармонии. Эта мысль могла бы удержать меня на земле", - проговаривается он. <...> ...Эта мысль возмущает его дух окончательно, именно из-за любви к человечеству... <...> ...Любовь к человечеству даже совсем немыслима, непонятна и совсем невозможна без совместной веры в безсмертие души человеческой. ... [Они] подымают руки на самих же себя; ибо вместо любви к человечеству насаждают в сердце потерявшего веру лишь зародыша ненависти к человечеству.
<...> Напротив, безсмертие, обещая вечную жизнь, тем крепче связывает человека с землей. <...> ...Ибо только с верой в свое безсмертие человек постигает всю разумную цель свою на земле. <...> ...[Следовательно], "если убеждение в безсмертии так необходимо для бытия человеческого, то, стало быть, оно и есть нормальное состояние человечества, а коли так, то и самое безсмертие души человеческой существует несомненно". Словом, идея о безсмертии - это сама жизнь... главный источник истины и правильного сознания для человечества» (Дневник писателя. 1876. Декабрь. «Голословные утверждения»).
От неверия к вере
«...Родился я в далекой губернии северной, в городе В. Скончался [отец], когда было мне всего лишь два года от роду, и не помню я его вовсе. <...> А было нас всего у матушки двое: я, Зиновий, и старший брат мой, Маркел. Был он старше меня годов на восемь... <...> ...Когда уже минуло ему семнадцать лет, повадился он ходить к одному уединенному в нашем городе человеку, как бы к политическому ссыльному... Был же этот ссыльный немалый ученый и знатный философ в университете. <...> Просиживал у него § юноша целые вечера, и так во всю зиму, доколе не потребовали обратно ссыльного... в Петербург...
Начался великий пост, а Маркел не хочет поститься, бранится и над этим смеется: "Все это бредни, говорит, и нет ника кого и Бога"... <...> И вот на шес той неделе поста стало вдруг бра ту хуже...... Доктор прибыл и вскоре шепнул матушке, что чахотка скоротечная... Стала мать плакать, стала просить брата с осторожностию... чтобы поговел и причастился святых Божиих Тайн... Услышав, рассердился и выбранил храм Божий, однако задумался: догадался сразу, что болен опасно и что потому-то родительница и посылает его, пока силы есть, поговеть и причаститься. <...> Прошло дня три, и настала страстная неделя. И вот брат со вторника утра пошел говеть. "Я это, матушка, собственно для вас делаю, чтоб обрадовать вас и успокоить", - сказал он ей. Заплакала мать от радости... Но не долго походил он в церковь, слег, так что исповедовали и причастили его уже дома. <...>
Изменился он весь душевно - такая дивная началась в нем вдруг перемена! Войдет к нему в комнату старая нянька: "Позволь, голубчик, я и у тебя лампадку зажгу пред образом". А он прежде не допускал, задувал даже. "Зажигай, милая, зажигай, изверг я был, что претил вам прежде..." Странными казались нам эти слова, а мать уйдет к себе и все плачет... <...> Приходили к нам знакомые: "Милые, говорит, дорогие, и чем я заслужил, что вы меня любите... такого..." Входящим слугам говорил поминутно: "Милые мои, дорогие, за что вы мне служите?.. Если бы помиловал Бог и оставил в живых, стал бы сам служить вам, ибо все должны один другому служить". Матушка, слушая, качала головой: "Дорогой ты мой, от болезни ты так говоришь".
"...Матушка... всякий из нас пред всеми во всем виноват, а я более всех". <...> "...Птички Божии... простите и вы меня, потому что и пред вами я согрешил". Этого уж никто тогда у нас не мог понять, а он от радости плачет: "...птички, деревья, луга, небеса, один я жил в позоре, один все обезчестил..." - "Уж много ты на себя грехов берешь", - плачет, бывало, матушка. "Матушка, радость моя, я ведь от веселья, а не от горя это плачу; мне ведь самому хочется пред ними виноватым быть... Пусть я грешен пред всеми, зато и меня все простят, вот и рай".
<...> Скончался...[он] на третьей неделе после Пасхи...» (Братья Карамазовы. Ч. 2, кн. 6, И. «О юноше брате старца Зосимы»).
Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1972-1990.
"Духовный собеседник". Альманах (издание Самарской епархии) №3 (23), 2000 год.
Оставить комментарий на статью